Когда кажется, что весь мир против тебя, взять себя в руки и двигаться дальше тяжело. Неважно, насколько серьёзная проблема заставила вас снова искать смысл жизни. Главное — найти источник силы и мотивации, который поможет выбраться из бесконечного круговорота, в котором вы задаёте себе лишь один вопрос: «За что?»
Мы пообщались с героиней, которая точно знает, что такое боль, отчаяние и ощущение, что ты в одну секунду потерял всё. Ольга Шелест родила абсолютно здорового на вид ребёнка, а спустя полгода узнала, что у сына Юры паллиативный статус: он неизлечимо болен. Ему не могут помочь никакие лекарства и даже самые дорогостоящие операции. Кажется, что это конец, и Ольга тоже так думала, но нашла в себе силы, чтобы продолжать жить счастливо.
Мы узнали, что она чувствовала, когда определился диагноз сына, как изменилась жизнь семьи после рождения особого ребёнка и есть ли свет в конце тоннеля, когда ты понимаешь, что ничего уже не может вам помочь.
«За полгода после рождения сына я похудела до 40 килограммов»
До рождения Юры моя жизнь была совершенно обычной: я окончила университет, поработала на телевидении, устроилась пресс‑секретарём в отдел наркоконтроля по Самарской области, родила первого (здорового) сына Тимура. Я переживала, что мы не можем лишний раз купить себе торт или поехать на отдых, и даже не представляла, что существует другая сторона жизни — та, в которой есть неизлечимо больные дети и отсутствует доступная среда.
В 2013 году я родила Юрика. Беременность протекала отлично, и ребёнок появился на свет абсолютно здоровым. Всё было хорошо до того момента, пока я не начала замечать в поведении младенца странности. Первое и основное, что меня насторожило, — Юра спал всего по 15 минут раз в 6 часов. Всё остальное время он кричал и замолкал только в момент кормления.
Когда кладёшь ребёнка на живот, он обычно старается поднять голову, но Юра не пытался сделать и этого. Я насторожилась и стала спрашивать у знакомых контакты хороших педиатров и неврологов. Все врачи говорили, что ребёнок ещё маленький — понятнее будет ближе к трём месяцам.
Время шло, а становилось только хуже.
За полгода после рождения сына я похудела до 40 килограммов. Не знаю, как бы пережила этот период бессонных ночей и бесконечных криков, если бы не моя мама, которая помогала и поддерживала. Мы обошли больше сотни врачей: одни говорили, что мой ребёнок просто ленивый, а другие советовали почаще класть его на живот, чтобы он кричал и таким образом тренировал шею.
Спустя пять месяцев я всё-таки добилась госпитализации в больницу и нас с Юриком отправили на обследование. Врачи обратили внимание, что ребёнок остановился в развитии, и написали в карте массу страшных диагнозов, начиная от врождённого поражения центральной нервной системы и заканчивая ДЦП. Я удивилась, ведь изначально у меня родился совершенно здоровый сын. Откуда всё это взялось?
Одна из врачей во время осмотра сказала мне: «Вам срочно нужно на реабилитацию в дневной стационар», — и выписала направление. Пребывание там не помогло нам, но я благодарна за её неравнодушие. Хоть кто‑то, глядя на моего ребёнка, понимал, что физическое развитие на уровне младенца спустя полгода после рождения — это ненормально. Его нельзя просто выписать из больницы и назначить стандартную терапию.
«Врач всё время называла его девочкой, хотя он лежал без памперса»
Я видела, что с моим сыном происходит что‑то неладное, поэтому начала сама искать решения — к сожалению, не всегда подходящие. Так, например, мы попали к одному гомеопату — очень известному человеку. Довольно неприятно вспоминать, как этот профессор посмотрел на моего ребёнка и сказал: «У него в организме не хватает одного компонента. Купите вот это лекарство, и через две недели он сможет сидеть». Приём стоил 3 000 рублей, а чудодейственный компонент, как и любая гомеопатия, недорого — всего 500 рублей. Разумеется, чуда не произошло.
Затем мне посоветовали записаться к одному очень известному в нашей области неврологу — у неё большой опыт работы и свой частный центр. Правда, уточнили, что попасть к ней практически нереально: запись на полгода вперёд. Каким‑то чудом нам удалось оказаться на приёме спустя две недели: один из пациентов пропустил очередь, и нам предложили прийти раньше. Я очень благодарна этому неврологу, потому что она оказалась единственной, кто чётко сказал: «У вас генетика».
На тот момент я даже не подозревала, сколько существует генетических заболеваний, а про наше не знала и подавно. Нас отправили к опытному неврологу — генетику, принимающему в одной из самарских больниц. Сказали, что никого лучше мы не найдём. У меня не было другого решения, поэтому я доверилась.
За полчаса осмотра этот врач 15 раз пыталась поднять моего ребёнка из положения лёжа и потянуть за руки на себя, а я без устали повторяла: «Подождите, он же голову не держит, она сейчас откинется назад». Врач всё время называла его девочкой, хотя он лежал без памперса, и задавала одни и те же вопросы: сколько лет ребёнку и с какой проблемой мы пришли.
Я попросила дать нам направление на МРТ, и это стало моим спасением. По её результатам нам диагностировали признаки зон лейкодистрофии — это заболевание головного мозга. Первый вопрос, который задали врачи после МРТ: «А вы его не роняли?». Сейчас, когда я знаю, что заболевание моего сына врождённое и развивается с шестой недели жизни в животе мамы, вспоминать этот вопрос просто страшно. Он в очередной раз подтверждает уровень «компетентности» наших врачей.
«Сейчас Юре шесть лет, но он всё ещё как новорождённый ребёнок»
Мне выписали платные обследования на 250 000 рублей. Пока я искала фонды, которые помогут их оплатить, наткнулась на медицинского представителя. Он отправлял людей на диагностику за границу. Мне очень повезло, что я не столкнулась с мошенниками, потому что в дальнейшем слышала много грустных историй. Моя же оказалась счастливой: мы заплатили 8 000 долларов, в которые входили переводчик на русский, трансфер из аэропорта, логистика от квартиры до клиники в Израиле. Мы прилетели, и нам сделали единственное обследование: МРТ головного мозга в формате 5D. Затем в течение недели его расшифровывали.
Когда пришло время озвучить нам диагноз, врачи плакали.
Я была поражена, потому что за весь период обследований в России ни у одного специалиста не то что слезинки не упало — не было даже тени неравнодушия. Мне сообщили, что у Юры лейкодистрофия, болезнь Канавана. Прогноз неблагоприятный: такие дети, по статистике, живут не дольше трёх лет. Сейчас я знаю, что это не предел. Я состою в группе с мамами, чьи дети страдают болезнью Канавана, и за шесть лет наше небольшое сообщество пережило три смерти: одному ребёнку было 18 лет, второму 9 лет и только третьему 2 года.
Сейчас я знаю о нашем диагнозе всё. В головном мозге моего сына медленно отмирает белое вещество, которое отвечает за все нервные окончания. Как результат, в какой‑то момент человек просто останавливается в развитии.
Сейчас Юре шесть лет, но он все ещё как новорождённый ребёнок. Он никогда не будет держать голову, стоять, сидеть, осознанно двигать руками, говорить. Туловище как вата — мягкое, так что если хочешь усадить ребёнка, то нужно придерживать и тело, и шею, и голову, чтобы она не падала вперёд или набок. Зрение есть, но связи между тем, что он видит, и восприятием — нет. Когда Бог забирает что‑то, он даёт другое в двойном размере, и в нашем случае это слух. Юра улавливает любой скрип, но, по сути, это тоже несовершенство нервной системы.

Мой ребёнок активно поддерживает диалог и делает это с разными интонациями, но всегда только одним звуком — «а». Когда мы открываем дверь в квартиру, он встречает каждого члена семьи отдельным приветствием: тянет звук то больше, то меньше. Он любит музыку и замолкает, когда слышит стихи Цветаевой.
Мы не знаем, что с интеллектом таких детей, как Юра, но, судя по тому, что я вижу, он всё понимает, только выразить не может.
Ничего хорошего наше заболевание не несёт. Мы уже не можем пить воду, но всё ещё получается кормить Юру очень густой кашей. В определённый момент он не сможет и этого, поэтому мы подстраховались и установили гастростому — специальную трубочку, которая поставляет еду и питьё сразу в желудок. Через некоторое время Юре станет тяжелее дышать и он будет нуждаться в кислородной поддержке, но пока этого не произошло и специальная техника нам не нужна.
«Этот ребёнок никем не станет. Что ты можешь сделать?»
Ещё за полтора месяца до получения окончательного диагноза я чувствовала, что у нас что‑то непоправимое, но когда об этом говорит врач — очень тяжело. Мне было жаль сына и себя. Я каждый день думала, где же согрешила, что Бог меня так наказал — дал такого ребёнка. Было очень страшно. Я просто не понимала, как буду жить дальше. Для меня не существует нерешаемых проблем, но в данном случае выхода я не видела. Я понимала, что никакие деньги мира не спасут моего ребёнка — я не могу ему помочь.
В один из дней к нам пришла массажистка. Я делилась с ней мыслями, что не понимаю, почему всё так произошло, а она ответила: «Оль, ты знаешь, как на Руси называли таких детей, как Юрик? Убогие. Это не потому, что они дурачки, а потому, что они у Бога. Значит, и ты рядом с ним». Это была первая фраза, которая заставила меня немного очнуться. Следующую сказала моя подруга и по совместительству психолог.
Она спросила: «Как думаешь, если бы твой ребёнок был здоров или мог говорить, он бы хотел быть гирями на твоих ногах?» Вот тут моё восприятие перевернулось и я посмотрела на ситуацию иначе.
Две недели я переваривала произошедшее, корила себя, жалела сына, но в один момент поняла, что это дорога в никуда. Если я продолжу ковыряться в себе, то просто погрязну в этом и умру духовно. Даже если ребёнку осталось жить три года, неужели я проведу их рыдая над его кроватью? Он не виноват, что таким родился, и я тоже. Это генетика, а не следствие неправильного образа жизни. Так из вопроса «За что?» у меня возник вопрос «Для чего?».
Самое главное, чему Юрик меня научил, — любить просто так. Когда дети рождаются, мы невольно от них чего‑то ожидаем, ведь это наше будущее, реализация надежд, опора. Думаем, что они станут отличниками, известными спортсменами, пианистами. Этот ребёнок никем не станет. Что ты можешь сделать в такой ситуации? Просто любить — за то, что он есть.
Благодаря этому чувству я научилась не злиться на людей, а просто желать добра и уходить в сторону, если человек меня обижает. Я не хочу нести в свою жизнь негатив, поэтому никогда не стану обсуждать, какие у нас плохие дороги или политика: мне не нравится занимать позицию диванного эксперта. Моя цель в любых делах теперь — делать то, что я могу, а не сокрушаться по вопросам, на которые не получается повлиять. Юра сделал меня сильнее и милосерднее.
«Невозможно принять, что ты держишь ребёнка, который медленно умирает»
У меня нет мужа, мы развелись ещё до рождения Юры. Я понимала, что не хочу, чтобы забота о младшем сыне свалилась на моих пожилых родителей: они у меня одни. Совершенно очевидно, что на пенсию по инвалидности в 15 тысяч прожить невозможно, поэтому я нашла для Юры няню и вернулась на работу — так я могу зарабатывать деньги и чувствовать, что мой ребёнок не обуза для остальной семьи.
Думаю, если бы мне сказали, что Юру можно вылечить с помощью упорного выполнения каких‑нибудь упражнений в течение 10 лет, я бы бросила работу и направила все силы на восстановление ребёнка. Но реальность другая: я понимаю, что ничто не поставит сына на ноги, поэтому максимум, что я могу ему дать, — любовь, заботу и наш дом.

Мне повезло в жизни, потому что я кайфую от своей работы. Она помогает мне чувствовать себя счастливой, чтобы я могла поделиться этим состоянием с Юрой и другими близкими. Вся пенсия по инвалидности и часть моего заработка уходят на оплату няни, а остальная часть средств — на лекарства, питание, коммуналку и потребности старшего сына. Ему 18 лет, и я прекрасно понимаю, что хочется стильно одеваться или пригласить девушку в кино.
Когда Юра только родился, Тимур очень мне помогал: перехватывал ребёнка, носил его на руках, успокаивал и давал мне возможность передохнуть. Я понимала, что под присмотром старшего сына с малышом ничего не случится, но любая мать меня поймёт: невозможно расслабиться, когда твой ребёнок в соседней комнате надрывно плачет.
Мы с Тимуром никогда не говорили о том, как он воспринимает Юру. Думаю, так же, как и я: у меня такой сын, а у него — брат.
Юрик очень общительный и не любит оставаться один. Вся его жизнь — наши руки и голоса. Мне же иногда нужно отбежать, чтобы приготовить вечернюю кашу, например. Поэтому периодически я прошу Тимура остаться дома и мне помочь. Конечно, это накладывает на него определённые ограничения.
Помню, когда Юрику была два года, старший сын в порыве эмоций спросил: «Мам, а может, сдать его в детский дом хотя бы на время, чтобы мы могли немного отдохнуть?» Я ответила: «Как это? Твой брат будет находиться у чужих людей, в чужой кровати, в чужом помещении, большую часть жизни один. Ты сможешь с этим жить?» Тима посмотрел на меня и сказал, что об этом не подумал.
Он хотел немного облегчить нам жизнь, но не подумал в свои 12 лет, что Юра тоже человек. Он всё чувствует и любит нас. За что мы его отдадим? За то, что пришлось поменять что‑то в своей жизни и стало неудобно? Я никого не осуждаю, но никогда не пойму маму, которая сдала ребёнка в детский дом, потому что ей тяжело.
Моим близким, конечно, непросто. Мы все понимаем, что рано или поздно Юрик от нас уйдёт.
Иногда мы с мамой начинаем воображать, что сейчас бы он уже бегал, в садик пошёл и готовился к школе. Я в такие моменты чувствую особую боль именно за своих родителей, потому что я мать и люблю ребёнка другой любовью — не такой, как бабушка или дедушка.
Впрочем, я уже говорила, что Юрик научил нас всех любить не за что‑то, а просто так. Это настолько беззащитный, открытый и светлый ребёнок, что человек рядом с ним просто не может остаться равнодушным. Юра обязательно затронет самые светлые струны — настолько глубокие, что вы могли даже не знать, что они у вас есть.
Мне кажется, что мой папа до сих пор не осознаёт, что его внук неизлечимо болен. Он всегда шутит: «Юрик, ты у нас как Илья Муромец: 33 года на печке будешь лежать, а потом встанешь и пойдёшь». Только одна эта фраза говорит мне, что он закрывается от правды. Невозможно принять, что ты держишь на руках ребёнка, который медленно умирает.
«Я стараюсь не думать о плохом и радоваться мелочам»
Мой мир не рухнул — он изменился. Но я понимаю, что с рождением любого ребёнка, даже здорового, ты уже не принадлежишь себе. Становится невозможно делать то же самое, что и раньше, когда ты был свободен от обязательств перед маленьким человеком.
Особенность ухода за неизлечимо больными детьми в том, что ты привязан к ним. Правда, в нашей семье эта проблема минимизирована: приходит няня, а я работаю. Но душой я всегда с Юрой. Утром я ухожу, вечером возвращаюсь, и сын сидит у меня на руках. Могу пересчитать по пальцам, сколько раз за шесть лет я ходила в кино или на прогулку по набережной. Вечера мы проводим дома, потому что живём в подъезде без пандуса и 30‑килограммовая коляска с трудом помещается в лифт. Но я знаю много мам, которые выходят дышать воздухом даже с аппаратом ИВЛ. Это личный выбор и возможность каждого.
Приём пищи занимает всего 30 минут. Думаю, примерно столько же времени уходит на кормление здорового ребёнка: пока водички попьёт, пока повертится, пока погладишь его. Каждое утро я обрабатываю гастростому, через которую Юрик питается, но для меня это такая же рутина, как почистить зубы. Вопрос лишь в том, как к этому относиться.
Многие мамы, которые родили неизлечимо больных детей, думают, что жизнь закончилась. Мне всегда хочется сказать им, что никакой это не конец.
Особые дети приходят в нашу жизнь не просто так. Раз они выбрали нас, значит, мы более сильные, точно справимся и обязательно должны быть счастливыми. От нашего эмоционального состояния зависит состояние наших детей. Но всё, что я сейчас говорю, применимо и к здоровым детям, согласны?
Отличие в том, что я живу на пороховой бочке и боюсь любой инфекции. Если у таких детей поднимается температура, то это происходит моментально и сбить её очень сложно. В 2018 году у Юрика повысилась температура и он потерял сознание. У меня была ужасная паника: я понимала, что теряю ребёнка. Тимур пришёл на помощь, забрал у меня Юрика и настоял, чтобы я отошла и вызвала скорую. Не знаю, что он сделал, но когда я вернулась, ребёнок был уже в сознании. Тогда мы впервые попали в реанимацию, где Юрику очищали трахею через нос. Пока это происходило, от боли он сгрыз все клыки. Наверное, это самое страшное, что я могу вспомнить.
Я стараюсь не думать о плохом и радоваться мелочам. Когда младший стабилен, я счастлива. Замечательно, что у меня есть мама и папа, которые позволяют мне иногда чувствовать себя маленькой дочкой. Я выдыхаю, когда они приезжают в воскресенье и у меня появляется возможность поспать не до 8:00, а до 10:00. Конечно, я счастлива, что у меня есть Тимур. А ещё — когда мы с мамой можем просто погулять в выходные: пройтись вокруг дома или в торговом центре, а иногда даже посидеть в кафе. Всё это мелочи, но они напитывают меня.
«Мой главный источник мотивации — Юра»
Сейчас я исполнительный директор благотворительного фонда «ЕВИТА». Его основал бизнесмен, музыкант и меценат Владимир Аветисян. Когда он предложили мне возглавить организацию, я уже занималась поиском семей для детей‑сирот с инвалидностью. Постепенно эта деятельность стала одной из программ фонда, но кроме этого я рассказала Владимиру Евгеньевичу свою историю — про детей с неизлечимыми заболеваниями и таких же мам, как я. Фонд создавался, чтобы помочь людям обрести здоровье или значительно улучшить качество жизни: к примеру, оплатили операцию — ребёнок выздоровел, купили коляску — человек смог выходить из дома на свежий воздух.
Помогать детям, которые никогда не поправятся, сложно, но необходимо.
Владимир Аветисян недавно признался: «Самое трудное — осознавать, что мы не можем вылечить этих детей. Но мы можем помочь им жить без боли». Сейчас помощь паллиативным пациентам — одна из наших ключевых программ. Около 5 миллионов рублей в год уходит на лекарства, питание, операции и медицинское оборудование для неизлечимых детей, и ещё столько же на другие программы.
Нам удалось организовать в Самарской области шесть паллиативных палат в двух разных больницах. Это маленькие домики для мам с неизлечимыми детьми. Там есть диван, специальная кровать с подъёмом туловища, микроволновка, чайник, телевизор — благодаря этим удобствам можно не бегать через десять палат, чтобы подогреть ребёнку воду или еду. Ещё мы поставили внутрь сушилки, удобные шкафы и климатизаторы, которые позволяют настроить температуру под нужды пациента.
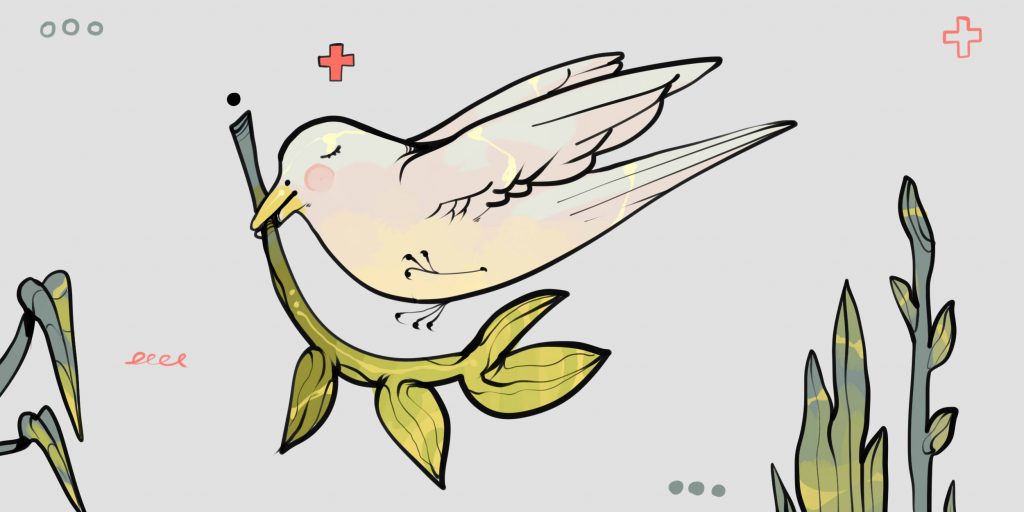
Прошёл уже год, а родители до сих пор присылают фотографии своих детей в новых палатах и благодарят нас за комфорт и удобство. Для меня этот результат — большая гордость. Хотелось бы создать ещё несколько палат, но бюджет фонда немного пострадал из‑за пандемии коронавируса. Помощь получают больше 150 детей, и сейчас важно сконцентрироваться на первостепенных задачах, а затем, надеюсь, мы продолжим работу над палатами.
Мне часто пишут и звонят мамы, которые находятся в состоянии горя и отчаяния, а я понимаю, что могу помочь только словом, — это выбивает из колеи. Меня огорчает, когда я объясняю, как нужно сделать, потому что прошла этот путь, а меня не слушают. Потом, правда, звонят и говорят, что я была права, но время уже упущено.
Меня расстраивают врачи, которые не хотят развиваться и путают гастростому с трахеостомой. Однажды мне сказали: «Призвание врачей — спасать жизни, а не наблюдать за их угасанием». Я тогда очень удивилась и ответила: «Зачем наблюдать за угасанием? Никто не знает, сколько наши дети проживут, так что можно просто быть рядом». К сожалению, сейчас немногие к этому готовы.
Конечно, иногда хочется всё бросить, потому что кажется, что ты борешься с ветряными мельницами.
Но в такие моменты важно думать о детях, которым ты помогаешь. Мне придают сил приёмные мамы, которые рассказывают об успехах своих детей, и ещё множество повседневных мелочей. Но мой главный источник мотивации — Юра. Если сегодня он проснулся, улыбается, с удовольствием причмокивает или поёт какую‑нибудь песню — это уже самое классное утро.
Больше всего я хочу, чтобы он не мучился, когда будет уходить от меня. Пусть это произойдёт не в реанимации в положении распятого на кровати, а со мной — дома, где спокойно, не больно и совсем не страшно. Я буду держать его на руках. Главное, чтобы он знал, что я рядом.














